Картинки 18 9, Купить Фото-конструктор Mozabrick Color M за 9 ₽

Коротко говоря, картина хочет поменяться местами со зрителем, приковать его к месту или парализовать, сделать его образом, на который картина направит взгляд, — это можно назвать «эффектом Медузы». Для всех info. Ищете интересное хобби для себя и близких?
Хубер приводит Австрию к командной победе Предыдущая 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 35 36 Следующая.
Planica Sunday I. Planica Sturday. Planica Friday. Planica Thursday Quali. Skifliegen WM Planica - Ind. Competition Day 2.
Competition Day 1. Skifliegen WM Planica - Test flights. Planica - Training. Skifliegen WC Planica - 1st Competition. Skifliegen WC Planica - Qualification.

Planica - WC 3rd Ind. Competition Planica - WC Team Competition Planica - WC 2nd Competition Planica - WC 1st Competition Planica - WC 2nd Ind. Planica - WC 1st Ind. Planica - WC Training, Qualification Волшебные портреты, маски и зеркала, живые статуи и дома с привидениями повсеместно присутствуют как в современных, так и в традиционных нарративах, а аура этих вымышленных образов влияет и на профессиональное, и на массовое отношение к реальным картинкам [3].
Историки искусства могут «знать», что изучаемые ими картины — всего лишь материальные объекты разных цветов и форм, но зачастую они говорят и ведут себя так, будто картины обладают волей, сознанием, агентностью и желанием [4]. Каждый знает, что фотография его матери — неодушевленный предмет, но при этом никто не решится ее изуродовать или уничтожить. Ни один современный, рациональный, светский человек не думает, что к картинкам надо относиться как к людям, но мы постоянно делаем исключения для особых случаев.
И это отношение не ограничивается ценными произведениями искусства или изображениями, которые значимы лично для нас. Любой специалист по рекламе знает, что у некоторых образов, как говорится, «есть ноги» — они обладают поразительной способностью задавать неожиданные повороты рекламной кампании и менять ее ход, как будто у них есть собственный интеллект и собственная цель.
Когда Моисей требует, чтобы Аарон объяснил ему появление золотого тельца, Аарон говорит, что он просто бросил в огонь все золотые украшения народа израилева, и «вышел этот телец», как будто это был самособравшийся автомат.

Очевидно, что ноги есть и у тельцов. Идея о том, что образы обладают своего рода особой социальной или психологической властью, на деле является расхожим клише современной визуальной культуры. Идея о том, что мы живем в обществе спектакля, надзора и симулякров, не является откровением одной лишь передовой культурной критики; икона спорта и рекламы вроде Андре Агасси может сказать «образ — это всё», и мы поймем, что он говорит не только про образы, но и от имени образов, ведь его самого зачастую считают «не более чем образом».
Не составит труда показать, что в современном мире идея одушевленности картинок так же жива, как и в традиционных обществах. Сложно понять, о чем говорить дальше. Каким образом традиционное отношение к образам — идолопоклонство, фетишизм, тотемизм — изменило свою функцию в современных обществах?
Должны ли мы, культурные критики, демистифицировать эти образы, сокрушать современных идолов, разоблачать порабощающие людей фетиши? Может, наша задача в том, чтобы проводить различия между истинными и ложными, здоровыми и нездоровыми, чистыми и нечистыми, добрыми и злыми образами?
Являются ли образы территорией, где идет политическая борьба и определяется новая этика? Есть сильное искушение ответить на эти вопросы громогласным «да» и использовать критику визуальной культуры в качестве прямой стратегии политической интервенции. Такого рода критика заключается в разоблачении образов как агентов идеологической манипуляции, действительно вредящих людям.
Крайний вариант этой позиции выражает Кэтрин МакКиннон, утверждающая, что порнография — это не просто репрезентация насилия и унижения женщин, но акт насильственного унижения [5]. Кроме того есть известные и менее спорные утверждения из области политической критики визуальной культуры: о том, что голливудские фильмы конструируют женщин в качестве объектов «мужского взгляда»; что неграмотными массами манипулируют при помощи визуальных медиа и популярной культуры; что небелые люди являются объектами откровенных стереотипов и расистской визуальной дискриминации; что художественные музеи — это своего рода гибрид храма и банка, в котором товарные фетиши выставляются для отправления ритуалов публичного почитания, направленных на производство прибавочной эстетической и экономической стоимости.
Отчасти все эти аргументы верны многие из них использовал и я сам , но в них во всех есть что-то решительным образом неудовлетворительное.
Пожалуй, наиболее очевидная проблема заключается в том, что критическое разоблачение и разрушение коварной власти образов — дело одновременно слишком легкое и слишком неэффективное. Картинки стали всеобщими политическими врагами потому, что по отношению к ним легко занять жесткую позицию, а в конечном счете от этого практически ничего не изменится.
Можно бесконечно свергать разные режимы видения без каких-либо видимых последствий как для визуальной, так и для политической культуры. В случае МакКиннон абсурдность этого предприятия довольно очевидна. Неужели действительно стоит тратить политическую энергию прогрессивной, гуманной политики, стремящейся к социальной и экономической справедливости, на кампанию по искоренению порнографии?
Не является ли это в лучшем случае лишь симптомом политического отчаяния, а в худшем — отвлечением политической энергии на содействие сомнительным формам политической реакции?
Проще говоря, я думаю, что, наверное, пришло время смягчить наши представления о политической значимости критики визуальной культуры и умерить риторику «власти образов».
Образы, несомненно, обладают некоторой властью, но они могут оказаться гораздо слабее, чем мы думаем. Наша задача — уточнить и усложнить свои представления о масштабе их власти и том, как она функционирует.
Вот почему я задаю вопрос не о том, что картинки делают, а о том, чего они хотят, тем самым смещая акцент с власти на желание, с модели господствующей силы, которой необходимо противостоять, на модель подчиненного, которого стоит допросить или, лучше, которому стоит предоставить слово. Если власть образов подобна власти слабых, то это может объяснить, почему так сильно их желание, призванное компенсировать их реальное бессилие.
Мы, критики, возможно, хотим, чтобы картинки были сильнее, чем они есть на самом деле, дабы мы сами могли почувствовать свою власть, когда противостоим им, обличаем их или, напротив, превозносим. Модель же понимания картинки как подчиненного раскрывает реальную диалектику власти и желания в наших отношениях с изображениями. В своих рассуждениях Фанон описывает принадлежность к чернокожему населению как «телесное проклятье», бросаемое при непосредственном зрительном столкновении: «Смотри-ка, негр!
Однако конструирование расового и расистского стереотипа не сводится к простому использованию картинки как техники господства. Субъект и объект расизма страдают именно от дабл-байнда [7]. Зрительное насилие расизма раздваивает свой объект, делая его одновременно сверхвидимым и невидимым, предметом, по словам Фанона, «омерзения» и «поклонения» [8].

Идола, как и черного, одновременно презирают и восхваляют: его поносят как фикцию, как раба — и при этом боятся как чего-то чуждого, как некой сверхъестественной силы. Если идолопоклонство — наиболее заметная из известных визуальной культуре форм власти образов, то стоит отметить, что это на удивление двойственная и неопределенная сила.
Учитывая, что визуальность и визуальная культура некоторым образом обвиняются в «соучастии» в идолопоклонстве и «косом взгляде» расизма, неудивительно, что Мартин Джей пишет о «низвержении взгляда», рассказывая, как западная культура неоднократно «принижала» видение [10].
Если картинки — люди, то это люди «цветные» или «меченые». В связи с этим скандалы с чисто белым и чисто черным холстом или с пустой, незакрашенной поверхностью предстают в совершенно ином свете [11]. Что же касается гендера картинок, то очевидно, что их положение «по умолчанию» — женское, ведь, по словам Нормана Брайсона, они «выстраивают созерцание вокруг оппозиции женщины как образа и мужчины как носителя взгляда» [12].
Следовательно, вопрос о том, чего хотят картинки, неотделим от вопроса, чего хочет женщина. Чосер, предвосхищая Фрейда, разворачивает нарратив вокруг вопроса «Чего больше всего желают женщины? Этот вопрос задают рыцарю, которого признали виновным в изнасиловании придворной дамы, однако исполнение смертного приговора отложили на год, за который он должен найти верный ответ.
Если он вернется с неправильным ответом, приговор будет приведен в исполнение. От женщин, которых он расспрашивает, рыцарь слышит много неверных ответов: деньги, почести, любовь, красота, пышные наряды, плотские утехи, множество поклонников.
А правильным ответом оказывается maistrye, «власть» — сложное понятие из среднеанглийского, что-то среднее между «господством» по праву или согласию и властью, связанной с превосходством в силе или хитрости [13].
Провозглашенная мораль чосеровского рассказа в том, что лучшая власть — та, которая отдается тебе по согласию, добровольно, однако рассказчик, циничная и приземленная Батская ткачиха, знает, что женщины хотят власти то есть им ее не хватает , и неважно, какой именно.
Что морально для картинок? Если бы кто-то мог расспросить все картинки, с которыми столкнется за год, что бы они ответили? Разумеется, многие из них дали бы «неверные» ответы, которые перечислял Чосер: картинки хотели бы стоить кучу денег; они бы хотели, чтобы ими восхищались и восхваляли их красоту; они бы хотели обожания бесчисленных поклонников. Но более всего они желали бы своего рода господства над тем, кто на них смотрит.
Майкл Фрид описывает «изначальную условность» живописи именно в таких категориях: «[ Коротко говоря, картина хочет поменяться местами со зрителем, приковать его к месту или парализовать, сделать его образом, на который картина направит взгляд, — это можно назвать «эффектом Медузы».
Подобный эффект, возможно, является наиболее четкой демонстрацией того, что власть картинок и женщин основывается на одной модели — модели жалкой, неполноценной и кастрированной. Власть, к которой они стремятся, проявляется в нехватке, а не в обладании. Конечно, мы могли бы гораздо подробнее разработать связь между картинками, феминностью и черным цветом кожи, приняв в расчет другие варианты подчиненного положения картинок: в терминах других моделей гендера, сексуальной идентичности, культуры и даже видовой идентичности почему бы, к примеру, не предположить, что желания картинок могут быть смоделированы по образцу желаний животных?
Что подразумевает Витгенштейн, постоянно называя некоторые распространенные философские метафоры «странными представлениями»? Но я бы хотел обратиться к модели, описанной в рассказе Чосера, и посмотреть, что будет, если мы расспросим картинки об их желаниях и перестанем воспринимать их как средства выражения смысла или инструменты власти.
Я начну с картинки, не скрывающей своих намерений, с известного вербовочного плаката американской армии «Дядя Сэм», нарисованного Джеймсом Монтгомери Флэггом во время Первой мировой войны. Желания этого образа, кажется, абсолютно ясны и сосредоточены на определенном объекте: он хочет чтобы «ты», то есть молодой мужчина подходящего возраста, пошел на военную службу. Непосредственное желание этого изображения — один из вариантов эффекта Медузы: оно вербально «окликает» смотрящего, пытаясь приковать его взглядом в упор и самая замечательная изобразительная особенность изображенной в перспективе вытянутой рукой, указательный палец которой останавливается на зрителе, обвиняя, призывая и приказывая.
Однако желание удержать — лишь преходящее, сиюминутное побуждение. Долгосрочный мотив — подвигнуть и мобилизовать смотрящего, послать его на «ближайший призывной пункт» и в конечном счете за океан — воевать и, возможно, отдать жизнь за свою страну. Но пока это лишь интерпретация того, что можно было бы назвать очевидными знаками положительного желания. Жест указания или подзывания — общая черта современного вербовочного плаката. Чтобы пойти дальше, нужно сформулировать вопрос о том, чего хочет картинка, в терминах нехватки.
Нашу мысль может прояснить сравнение с немецким плакатом. На нем изображен молодой солдат, который приветствует своих братьев, призывая их объединиться для благородной смерти на поле боя. Дядя Сэм же, как указывает его имя, находится в более слабой, непрямой связи с потенциальным новобранцем. Это престарелый мужчина, которому не хватает юношеской силы для борьбы и, что важнее, прямой кровной связи, к которой отсылает фигура Отечества. Он призывает юношей сражаться и умирать на войне, в которой не будет участвовать ни он сам, ни его сыновья.
Как сказал Джордж М. Коэн, у Дяди Сэма нет «сыновей» — только «реальные живые племянники»; Дядя Сэм — бесплодная, абстрактная, картонная фигура без тела и крови, которая при этом олицетворяет собой нацию и призывает чужих сыновей жертвовать своими телами и своей кровью.
Неудивительно, что он является художественным потомком Янки-Дудла, сатирического персонажа британских карикатур, украшавшего в XIX веке страницы журнала Punch. Но его главным предком был реальный человек, «Дядя Сэм» Уилсон, поставлявший говядину американской армии в ходе англо-американской войны года. Можно представить себе сцену, в которой реальный прототип Дяди Сэма так же обращается — но не к юношам, а к стаду коров, которых скоро поведут на убой.
Так чего же хочет эта картинка? Исчерпывающий анализ завел бы нас в глубины политического бессознательного нации, которая номинально представлялась в виде бесплотной абстракции, просвещенного государства, в котором правят законы, а не люди, принципы, а не кровные отношения, а на деле воплощалась в виде страны, где белые мужчины посылают воевать вместо себя юношей всех рас. Чего не хватает этой реальной и воображаемой нации, так это мяса — тел и крови, — и чтобы его заполучить, она посылает тощего человека, поставщика мяса, а может, и просто художника.
Получается, что Дядя Сэм — автопортрет патриотичного американского художника в одежде с национальной символикой, воспроизводящего себя в миллионах одинаковых копий — плодовитость, доступная картинкам и художникам. С учетом контекста может показаться чудом, что этот плакат имел хоть какую-то силу и эффективность в качестве инструмента вербовки.
На самом деле крайне сложно узнать что-либо о реальной власти образа. Однако можно описать, как его желания выстраиваются по отношению к фантазиям о власти и бессилии.
Возможно, изящная откровенность, с которой этот образ демонстрирует собственное холодное бесплодие, а также его происхождение из сфер торговли и карикатуры делают Дядю Сэма столь удачным символом Соединенных Штатов. Иногда даже явные знаки желания говорят скорее о нехватке, нежели о способности повелевать, как в плакате, сделанном Warner Bros.
Его жесты выражают просьбу и мольбу, объяснение в любви к «мамочке» песня My Mammy и зрителям, которые должны прийти в кинотеатр, а не на призывной пункт. Эта картинка хочет — в отличие от того, что она просит, — зафиксировать отношения между фигурой и фоном, отделить тело от пространства, кожу от одежды, внешнюю часть тела от внутренней.
Но это невозможно, поскольку стигмы расы и образа тела растворяются в мельтешении сменяющих друг друга черного и белого пространств, «мерцающих» перед нами подобно самому медиуму кино и обещанной им сцене расового маскарада. Как сказал бы Лакан, картинка пробуждает в нас желание увидеть как раз то, что она не может показать.
Именно это бессилие и сообщает ей ту особую власть, которой она обладает. Иногда, как в одной византийской миниатюре XI века, исчезновение с картинки объекта зрительного желания является непосредственным следом деятельности многих поколений смотрящих.
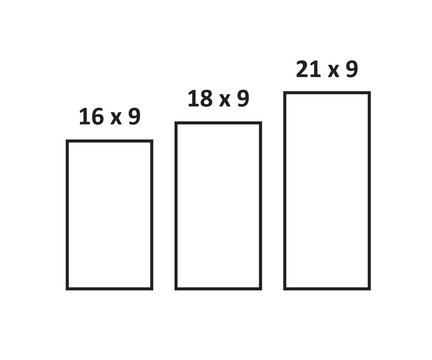
Фигура Христа, подобно фигуре Дяди Сэма или Эла Джолсона, напрямую обращается к смотрящему со стихами из семьдесят седьмого псалма: «Внимай, народ мой, закону моему, приклоните ухо ваше к словам уст моих».